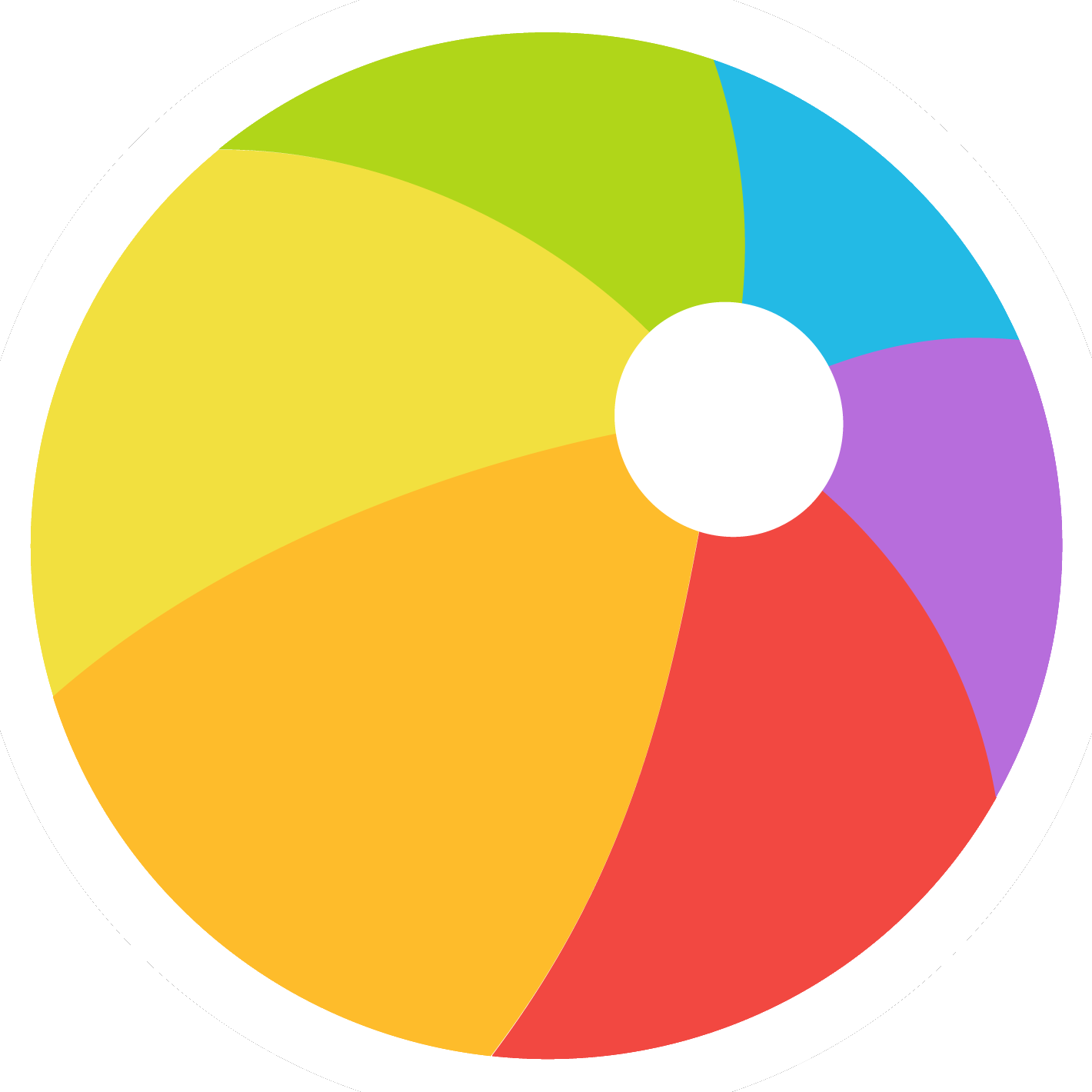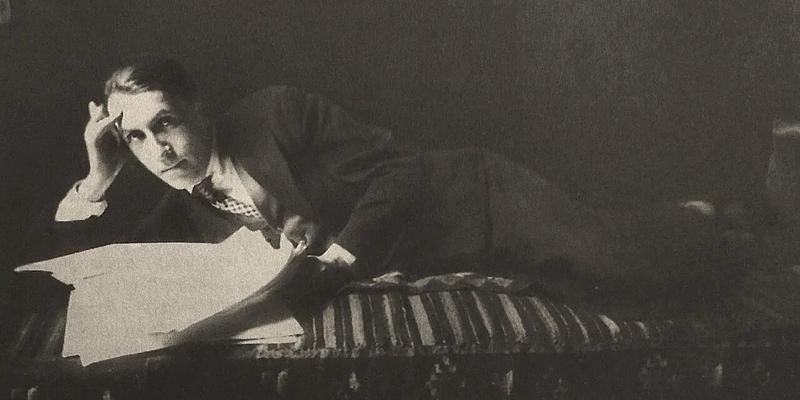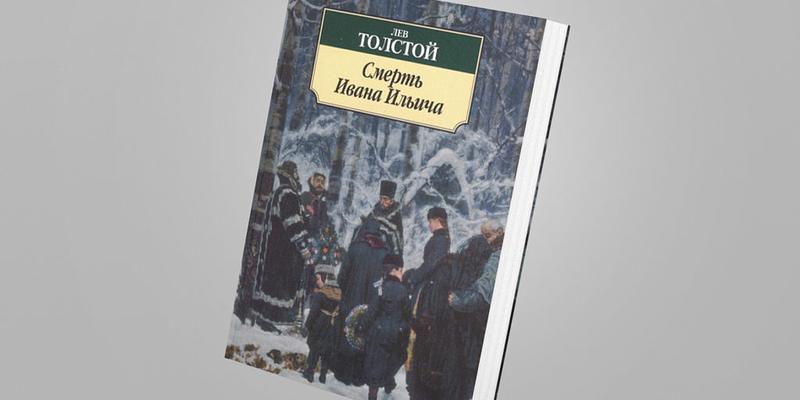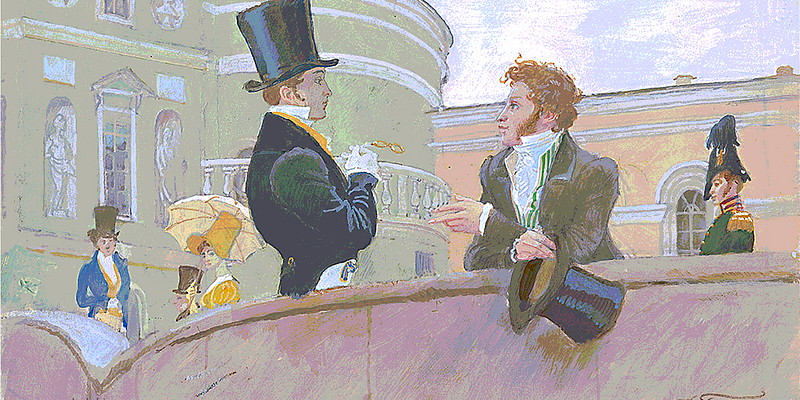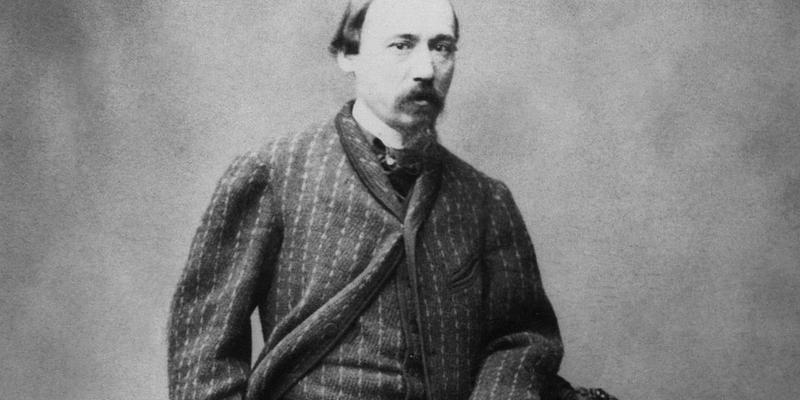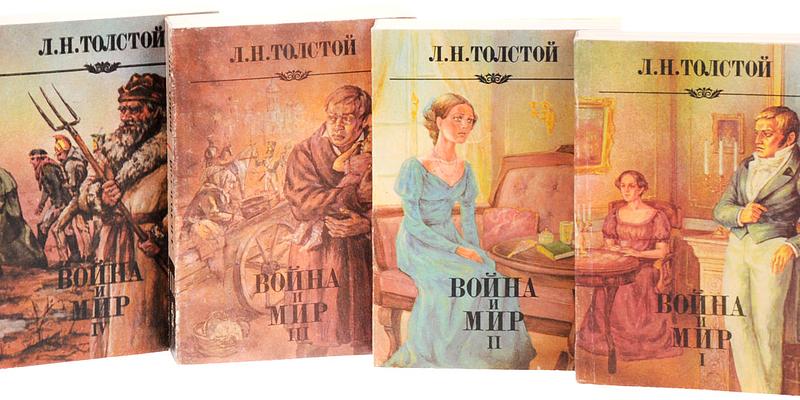Наверное, главная полемика XIX века — это все-таки «Великий инквизитор» в «Братьях Карамазовых» , это полемика Достоевского (скрытая) с партией Константиновского дворца. Достоевский так был устроен, что для него художественные соображения были выше человеческих и политических, поэтому он сумел изобразить Победоносцева с предельной убедительностью, да ещё и посылал ему это для чтения. И поэтому, в конце концов, он стоял на пороге разрыва с этой партией. Я абсолютно уверен, что второй том «Карамазовых» показал бы всю неизбежность краха вот этой фальшивой концепции государства-церкви. Полемика с «Великим инквизитором» — это и полемика с Леонтьевым в том числе, и полемика со всем государствобесием, с той антихристовой церковью, которую заклеймил Мережковский, потому что это именно четкое понимание, что присвоение Христа государством ведет к неизбежному вырождению. Конечно, Достоевский не любил католичество, и именно за это — за его политизированность, за его огосударствление, за попизм. Но вот та ситуация, которая описана в «Инквизиторе», она ничем не лучше папства. И думаю, что «Великий инквизитор» — это одно из самых глубоких его прозрений.
Вторая такая полемика для XIX… ну, скорее, это уже начало XX века — это полемика церковных мыслителей с Львом Толстым по поводу его выхода из христианства, ну, из официального христианства, по крайней мере из православия. Это его полемика с достаточно многими, кстати говоря. Ну, тут Иоанн Кронштадский засветился, наверное, в самом таком бездарном, что ли, смысле, в самом жалком, потому что Иоанн Кронштадский вообще ведь не публицист, по большому счету. Иоанн Кронштадский — это человек, который пытается стяжать святость на новом этапе, но, к сожалению, как полемист он против Толстого совершенно несостоятелен. Но был целый круг авторов, которые полемизировали с Толстым, и полемизировали очень неудачно. Иоанн Кронштадский говорит о его львиной гордости, пишет, что он «аки лев рыкающий». В толстовской позиции как раз, мне кажется, нет гордыни. В толстовской позиции есть попытка достучаться до правды, докопаться до правды, но эту правду он понимает очень неправильно.
Тут полемика могла быть только одна: «Когда вы возражаете против церковной обрядности, против наших ритуалов, против причастия, с точки зрения материалистической вы совершенно правы. Но мы полагаем, что действовать так, как мы, душеполезнее. Мы не вкладываем в это никакого сакрального смысла, но мы полагаем, что так лучше. Вот и все. При этом мы вовсе не думаем, как сказано там у вас «Воскресении», что мы едим тело Бога и пьем его кровь. И это для нас не язычество. Это мы вот такую духовную практику предпочитаем. Это наши воспоминания о Тайной вечере, не более того». Но и когда Христос говорит: «Сие есть плоть Моя»,— он, конечно, имеет в виду метафору.
Могли быть другие полемические приемы против Толстого. Но с другой стороны, понимаете, ведь Толстой — опять-таки, он не столько взыскует в данном случае к истине, он пытается выстроить (вот это очень важно для наших дней), пытается выстроить такую программу жизни, которая бы позволяла не участвовать в государственной лжи. Вот полемика по этим вопросам очень важна. «Жить не по лжи» у Солженицына — это всего лишь развитие толстовских идей. Вот каким образом можно жить в такой рабской ситуации — и при этом не быть рабом, и при этом не участвовать (по крайней мере, своим голосом, деньгами, поддержкой) в репрессивной политики государства? Каким образом от этого дистанцироваться? Вот здесь тоже полемика очень интересная. Вообще полемика вокруг толстовства мне представляется главным спором рубежа веков.
Вот мы как раз с Николаем Богомоловым на его семинаре заговорили о том, в какой мере можно назвать Толстого модернистом. Толстой же пишет: «Я люблю это слово и понятие — Fin de siècle». Наверное, Толстой действительно (ну, как правильно совершенно говорит Богомолов), он не является модернистом, но он к этому тяготеет, потому что тут вам и жизнестроительство, и вот секта вокруг него существующая, и модернистские приемы его поздней прозы, связанные с разрушением наррации и с разрушением жанровых границ. Он, конечно, модернист по своей жизненной практике. И Бунин был модернистом, этого не сознавая, хотя позировал в качестве консерватора постоянно.
Так вот, толстовский опыт этого времени — это самое существенное то, что происходит вокруг Толстого, прежде всего полемика вокруг его секты. Это очень важно. Потому что он сам про себя говорил дочери: «Я не толстовец». И вот то, что всякое учение в России неизбежно вырождается в секту по разным причинам (и необязательно в России, кстати),— вот это тоже полемика достаточно существенная. Вот то, что существует вокруг Толстого, и то, что существует вокруг Достоевского, вот эти два главных спора.
Наверное, интересная полемика XIX века — это полемика между «Современником» и его оппонентами в лице радикальных футуристов, в лице «Дела», Писарева, Благосветлова и так далее, полемика там вокруг Щедрина, «Цветы невинного юмора». Условно говоря, полемика либералов с радикалами. Вот это очень интересно. Тоже один из главных споров — это спор Писарева даже не с консерваторами (консерваторами он не заморачивается, ему это не интересно, они безнадежны), а вот его полемика с Некрасовым. Она же, кстати, и эстетическая полемика: имеет ли смысл искусство или искусство должно быть чисто прагматическим? Это то, что потом отозвалось в полемике физиков и лириков. В любом случае полемика Писарева с Некрасовым и со Щедриным — она интересна. Я думаю, что из всего круга «Современника» они всерьез воспринимали только Чернышевского, которого тоже недопонимали, конечно. А вообще некрасовская позиция во многих отношениях, для меня во всяком случае, нравственный эталон.
И вот статья «Цветы невинного юмора» и особенно «Мотивы русской драмы», где набрасывается Писарев на «Грозу», такая… Ну, две позиции очень характерные для русской полемики, для русской критики, воплощенные в двух говорящих фамилиях — Добролюбов и Благосветлов. Это ужасно интересно, ужасно символично! В России все очень символично, как будто Господь печется о наглядности. Вот этот спор или то, что называли ещё «расколом в нигилистах»,— это самое интересное. Да, нигилисты, как и либералы сегодня, они всегда между собой полемизируют, потому что, как правильно заметил Акунин, «едины только сторонники собственной выгоды»: между ними разногласий, так сказать, идейных разногласий не бывает.